Всё началось с Платонова, который якобы
работал дворником. И с тех пор мне так часто попадались случайно отдельные места из мемуаров Константина Георгиевича: то в виде фрагмента, где он библиофилов пугал, то где он последнему из Рюриковичей письменно обязуется плодами из сада фруктового не пользоваться, то где он с «Дикой собакой» Фраерманом пьянствует, то «Наедине с осенью» в букинистическом нашёл, то ещё что — что наконец я созрел прочесть эту его главную книгу целиком.
И очень был обрадован. Встретил на редкость умного, тонкого собеседника, ясно видящего поэтику мира, магию его хрупкой преходящести — дар, которым тут наделены лишь единицы.
«Повесть о жизни» состоит из нескольких книг:
«Далекие годы» (1945–1946), [
MP3 ]
«Беспокойная юность» (1954), [
MP3 ]
«Начало неведомого века» (1956), [
MP3 ]
«Время больших ожиданий» (1958), [
MP3 ]
«Бросок на юг» (1959–1960), [
MP3 ]
«Книга скитаний» (1963). [
MP3 ]
[
TXT ]
Весьма рекомендую аудиокнигу. Превосходный голос советского диктора Юрия Рудника. Правда, развлекающего подчас неожиданными ударениями в самых обычных при том словах, вроде: Ха'рбин, ша'тры, о'соки, фо'льги, и т. д.
Начало цикла представляет особую историческую ценность. У нас ведь при большевиках мало кто смел столь подробно вспоминать золотую пору умирания царского режима, и особо Первую Мировую, признававшуюся классово чуждой, Империалистической. Мы ведь её больше по комедиографу Гашеку знаем.
Скажем, если вы некогда искали это особое у Ивана Шмелёва в «Лете Господнем» — к своему удивлению, вы найдёте у
советского классика Паустовского куда больше.
Паустовский — мастер пейзажной лирики и случайной романтики людских судеб. Он был знаком практически со всеми интересными людьми своей эпохи. И оставил и о них тоже воспоминания. То есть, это тот автор, по которому вы можете выстраивать системное представление о всём ценном, что было в нашей стране век назад. Такой своего рода
психопомп для нас, Вергилий в ту страшную и героическую эпоху, время надежд.
Он краток, динамичен, у него нет лишних слов и абзацев, затянутостей. Он выбрал мемуаристику, как свой жанр, обладая тем знанием, что жизнь бывает порой удивительнее любых выдумок. Он скромен, неизменно предпочитает промолчать, практикует даосский категорический отказ от деяний, даже когда красные его тащат на расстрел в том московском эпизоде, о котором спел его коллега по санитарным поездам Вертинский в «То, что я должен сказать»; и очень любит людей. Вопреки всему, что они по недомыслию творят с собою и теми, кто рядом.



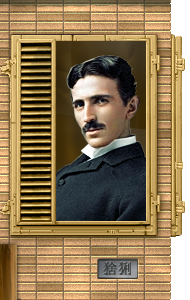

![[ uploaded image ]](/up/14-09/01-7082-paustowski-the-story-of-a-life.jpg)
Первое, о чём следует предупредить, что важно понимать, читая «Повесть о жизни» Паустовского — что это не чистая автобиография. Он выдумывает там многое, комбинирует случайность событий, вываленных на него судьбою, с собственными решениями художника и романтика.
В частности, вся эта страсть к погибающим прекрасным девушкам — она же с первых страниц бросается в глаза, как странно, излишне навязчивая закономерность — так вот и ей не следует всякий раз верить. Самое тяжёлое место: гибель Лёли — по всей видимости, выдумано. Я особо стал искать потом про то серебряное кольцо на мизинце Паустовского.
Да и с госпитальным судном «Португаль» французской компании «Мессажери Маритим» погибли тогда не все.
У меня немного не укладывается, как так можно было делать — не мог и подумать, когда слушал книгу, что в таких подробных воспоминаниях о своём детстве, родных, каких-то самых ярких и дорогих моментах, возможно было что-то досочинять пущего трагизма ради.
Это (дальше мы будем верить всему что он о себе пишет просто ради удобства): потомок гетмана Сагайдачного, среди прочих развлечений однажды штурмовавшего Москву; учившийся с Булгаковым в одной гимназии, и, точно так же как он, бывший украинским писателем в те благословенные времена, когда украинцы ещё совершенно искренне считали себя русскими (об этом — вся первая книга цикла)...
Причём, там были и сильные польские, шляхетские корни. Обратите внимание, на автографе для Марлен Дитрих после той трогательной сцены в конце его жизни, он пишет своё имя в польской нотации.
Марлен Дитрих, — если я напишу рассказ, подобный „Телеграмме“, то я позволю себе посвятить его Вам.
30/05 –64 Москва
К. Паустовский (K. Paustowski)
Также учился в одной гимназии с убийцей Столыпина, и был с классом в Киевском оперном театре, когда это произошло.
Имел беседу с Николаем II, впрочем, государь император тогда оказался не самым увлекательным собеседником.
В Первую Мировую, как и Вертинский, был освобождён от службы, но, как и он, добровольцем пошёл служить на санитарных поездах.
А до этого работал в Москве кондуктором трамвая. Ещё царского трамвая, прошу заметить. Это возвращаясь к тому, возможно ли, чтобы писатель Платонов был дворником, а поэт Цой — кочегаром. Всё возможно. Лишь тем, кто сам владеет многими профессиями, доступно понимание, что род текущих занятий не просто не определяет человека, но вовсе неважен.
А двусмысленность другого я тогда отметил, и интуитивно выбрал второй её смысл. Поняв, что, значит, некоторые, особо личные места автор будет пропускать. О чём и предупреждает. Что потом разошлось с его концентрацией на самых дорогих ему людях — о чём обычно писатели вовсе не пишут. Выходит, всё иначе: не пропуск, но иногда трансформация.
Что удалось в полной мере. Это действительно огромный подарок — возможность увидеть то, уже надёжно утраченное для всех, время глазами того, кто умел видеть и передавать. Не знаю, как у вас, для меня каждая сцена, описанная Паустовским, предстала в малейших подробностях, как в ярком сне или кино, где можно остановить кадр и рассмотреть отдельно каждую мельчайшую деталь. Один из авторов, у которых надо учиться языку живых описаний. Передаче без потерь этого очарования жизни.
Да, видели.
Как понимаю, речь идёт о колёсной лире. Вот такой.
Андрей Котов — Заведу я компанью
(Фёдоров, Волков, Старостин, Котов, 25.08.2011, ПирОГИ)
Ничто моей душе да не пособит
Ни именье, ни богатство
Ни гордость, высокоумье
Напомню, это тот самый период, когда в Абиссинию лазал Гумилёв.
Николай Гумилёв — Умер ли Менелик?
Ещё раз спасибо.
Заметьте, такие разные люди, с разными судьбами, как Пруст, Кастанеда, Мамардашвили, Паустовский — все об одном. И это ведь не взаимные интерпретации, гораздо глубже. Никакого смысла в этих осмыслениях и цитированиях не было бы, если бы под ними не лежало нечто более важное, реальное, если бы мы не хотели указать на это само. Тот особый опыт, знакомый нам, который выше всего прочего в жизни — который составляет главное в ней, её смысл.
А ведь полно людей вокруг, у кого нет этого в жизни. Или так и не было никогда осознано, или давно позабыто, принято за несущественное, оставлено где-то в детстве — с его более чистым и свободным, непредвзятым, феноменальным взглядом на мир.